Алєксєй Таруц — художник; займається перформативними та ситуативними творами. Ключовими у роботі є проблематизація поняття «подія», технології та звук. Живе та працює у Москві.
Настя Калита поговорила з Таруцем про його участь у двох Київських бієнале — «Інтернаціонал» (2017) та «Чорна хмара» (2019), режисуру та методи роботи.

Твои работы уже во второй раз представлены на Киевской биеннале. В этом году одна из подтем биеннале — Чернобыль. Есть ли у тебя личные рефлексии, связанные с катастрофой?
Тревога распространяется быстро и надолго оседает в бытовых решениях. Думаю, был шанс того, что все могло развернуться в сторону переезда в другой город. То, что случилось в 1986, можно назвать примером радикально нового события, почти фантастическим сценарием, в действительность которого никто не хотел верить, типа is it real life?
В Киеве меня поражает музей Чернобыля, своей театральностью, доведенной до предела. Экспозиция настолько перегружена, что именно визуальный перегруз — то есть невозможность остановиться или выбрать предел — говорит о переживании травмы сильнее, чем сами документы. В отличие от музея, вылизанный продукт Netflix, хоть и проливает свет на некоторые факты, но одновременно и профанирует их, потому что спецэффекты коммуницируют нечто другое — крутость продакшена и удовольствие от аффектации.
Расскажи о работе «Туамоту аку аку хіва оа оану рараку тому матуа туамот» (слова из песни советской авангардной группы, google-перевод с языка маори «вы должны создать своих родителей» — прим. ред.), которую ты представил на выставке «Чёрное облако»? Работа состоит из двух частей: сирены, которая включалась каждое утро в 7 утра, и ее копии в экспозиционном пространстве. Я видела работу в процессе создания, в мастерской у Бориса Блаженного (художник, працює з технікою та звуком — прим. ред.), уже тогда выглядело впечатляюще. К сожалению, это единственное, что мне понравилось на биеннале в этом году.
Со слов продавца с OLX, она никогда не включалась по тревоге и стояла в резерве, абсолютно новая, но уже поржавевшая. То есть в самом объекте нет опыта свидетельства.
Вторая часть работы — фантом сирены, скульптура, сделанная из церезина скульптором Антоном Саенко. Часто в своих практиках я прошу специалистов мне помочь, и продакшн начался пока меня здесь не было. Мы все обсуждали удаленно.
Ты лично выбирал Борю и Антона?
Антон написал сам после того, как мы сделали опен-колл. В финале мне помогал еще помощник Бори — Алексей Астахов. Он собирал схему и таймеры, потому что сирена должна была включаться в 8 утра каждый день, в тот момент когда на Площади Знаний Киевского Политехнического Института включается студенческое радио.
Скульптору была дана инструкция: представить скелет сирены, как будто его обнаружили спустя 4 миллиона лет как палеонтологическое ископаемое. Воск часто применяется в моделировании древних окаменелостей — как промежуточный материал. Когда мы приходим в палеонтологический музей и смотрим на «скелет» динозавра в полном сборе, то часто бывает, что мы не смотрим на сам скелет, а смотрим на гипсовые, тонированные фрагменты. Некоторые кости воссозданы профильными художниками, некоторые могут быть взяты из других раскопок, даты — все это визуальная репрезентация. Попадая в подсвеченную витрину музея, ископаемое уже становится экспонатом, то есть продуктом антропоцена и материальной культуры, производимой человеком.
Антон оправдал твои ожидания?
Я минимально корректировал его работу. Это история не про ожидания, а про процесс и спекуляцию. Я приглашаю чье-то визионерство. Вопрос не про эстетическую задачу, а про то, что мы видим скульптуру как продукт работы художника, который сформирован его поведением, выбором, образованием и психологией.

Что тебе хотелось сказать этим другим?
Сирена говорит сама за себя каждое утро в 8 утра. Это перформативная работа.
Часто есть звук в твоей практике. Расскажи об этой части.
Я работаю с ситуацией разобщения, распределенного события. На биеннале я показал сирену говорящуя или, скорее, поющую. Часто я работаю с практикой речи, ее я понимаю как физиологический эффект по отношению к тексту. Текст могут произносить разные люди и он каждый раз будет звучать по-разному.

На выставке «Dance Dance Dance» в BURSA Gallery, которая проходила в рамках «Интернационал» — Киевской биеннале 2017, двое ребят воспроизводили твой проект…
Для этой работы устанавливается саб и приглашаются двое перформеров, обладающих специальным знанием — блэк-метал вокальной техникой, одна на вдохе (inhale guttural), а вторая на выдохе (growl). Благодаря эй создается цикличность высказываний и символическая перекачка воздуха между ними, словно они образуют один раздваивающийся субъект, который сам себя со временем истощает. При этом они могут быть кем угодно, работать на любых работах.
Я много читала текстов о тебе на «сигме», часто там фигурирует тема «события» при упоминании твоей практики и, конечно, же рейв. Я не выделяю рейв, он был, но это далеко не самое сильное.
Да, рейв — это частный случай. Для меня событие — это условие для возникновения связей любого типа. Событие — это то, что не исчерпывается диктатурой текста или рациональной и социальной коммуникацией, не сохраняется в одном источнике.


Но все делают на теме рейва в твоей практике акцент.
И это начало бесить. Так называлась моя первая выставка, но в ней не было ничего про рейв-культуру. Было двухканальное видео, которое состояло из документальных архивных материалов ликвидации боевиков службой безопасности Российской Федерации. Они плавали по экрану, наподобие заставки DVD, пока не шел контент.
Тогда только появился канал Russia Today, и у них можно было покупать архивные видео. Вероятно, в качестве промо своего продукта RUPTLY, они выложили в свободный доступ среди прочего контента около 150 видео хроникальных кадров ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Я использовал эти видео вместе с приглушенным hardtrance плейлистом. Эхо разносило звук по всему ЦВЗ Манеж. Шел первый год войны на юго-востоке Украины.

Если говорить о последней работе в рамках биеннале «Черное облака», то здесь речь об этом тоже — о способах радикальной коммуникации.
Я бы в этом контексте говорила не об исторических событиях, а о политических.
История — это уже политическая конструкция. То, как ты производишь репрезентацию скелетов динозавров в музее — политическая позиция. Все эти скелеты существовали тогда, когда не существовало человеческой памяти в органическом виде.
Меня очень впечатлил твой проект «Premium Class Triumph 2016», во время которого люди сначала ждали перформанса, а потом спускались в другой зал, а там тоже ничего не происходило. Звучало много критики по этому поводу, мол, что за хуйня.
Это была первая работа, которую я сделал в процессуальном ключе. В ней два уровня: первый — намек на галерейную выставку с ожиданием чего-то, чего потом не происходит, а второй — когда во время ожидания все меняется. Про эти события все написано.
Герт Ловинк говорил вчера на лекции в библиотеке КПИ, что технологии современного мира предлагают привыкать к получению удовлетворения от включенности в инфополе, от коммуникации. Триумф обмана — когда ты не получаешь instant gratification, оно смещается неожиданным образом.
Расскажи о своих методах работы.
Часто я действую интуитивно, а работы продолжают одна другую. Мне интересна ситуация, когда можно перешагнуть свою материальность и присутствие в одной точке. Например, инсталляция для биеннале в КПИ не существует только для зрителя, она существует и сама для себя, и для библиотеки, и для людей, которые проходят утром по Площади Знаний. Я использую звук чрезвычайности как приглашение.
Можно сказать, что я использую тактику создания искусственной паники — так, как это делается корпоративными медиа — для привлечения внимания аудитории ко всему «Черному облаку». Но изо дня в день эта паника замыливается повтором. А привыкание к тревоге или к явлению чего-либо непредсказуемого очень бытовая вещь.
В биеннале ты участвуешь уже во второй раз. Почему для тебя важно быть частью этого события?
Помимо того, что я очень люблю Киев, есть еще и геополитический надрыв, который совпадает с тем, что меня интересует в моей художественной практике. Я говорю об отношениях внутри ситуации разрыва или раздвоения, ведь разрыв — это лишь тип связи, при котором прозрачность намерений сторон является их же призрачностью.
Во время «Интернационала» я участвовал не в рамках Основной программы.
Это не убавило яркости проекту.
Было ярко, да. Место не узнать конечно (мы сидим с художником в холле отеля BURSA, где проходила выставка «Dance Dance Dance» в рамках Киевской биеннале «Интернационал» в 2017 году — прим. авт.).
Да, галерея проработала год, а теперь там кинотеатр.
Конечно, это разговор про девелопмент и то, как правильно капитализировать недвижимость на всех этапах.
BURSA — проект для «позитивной» креативной публики. До того, как это место построили, внизу орали нечеловеческими голосами два перформера, и классно, что этот след остался внутри. Тогда тут была руина, а сейчас здесь все выхолощено, но фантом остался.
И все-таки почему для тебя важно быть частью Киевской биеннале?
Не потому, что я представляю интересы Российской Корпорации.
Почему такое определение — корпорация?
Была гостиница «Россия», ее снесли и построили парк «Зарядье» за космический бюджет в кратчайшие сроки. Парк работает 24 часа в сутки, он создает видимость доступности политических решений, в шаге от неприступных кремлевских стен. Внутри есть растения из Сибири, Азии и т. д. — такой колонизаторский проект, который показывает отслоение современной власти карты России. Нарядная картинка, находясь в которой, можно делать селфи на фоне Кремля. И, конечно, парящий мост, который по дуге загибается над рекой и возвращает посетителя обратно на тот же самый берег.
Звучит дико.
Решение о строительстве парка было предложено Президентом мэру и согласовано на месте.
Как на тебя влияет политика твоей страны?
Стабильно влияет, хотя я никогда не перевожу это в буквализм. Я не занимаюсь ярко выраженным политическим искусством, не делаю «плакаты» и не занимаюсь акционизмом.
Часто акционизм либо позволяет присвоить чьи-то проблемы, либо же наоборот усиливает силу того дракона, против которого он выступает.
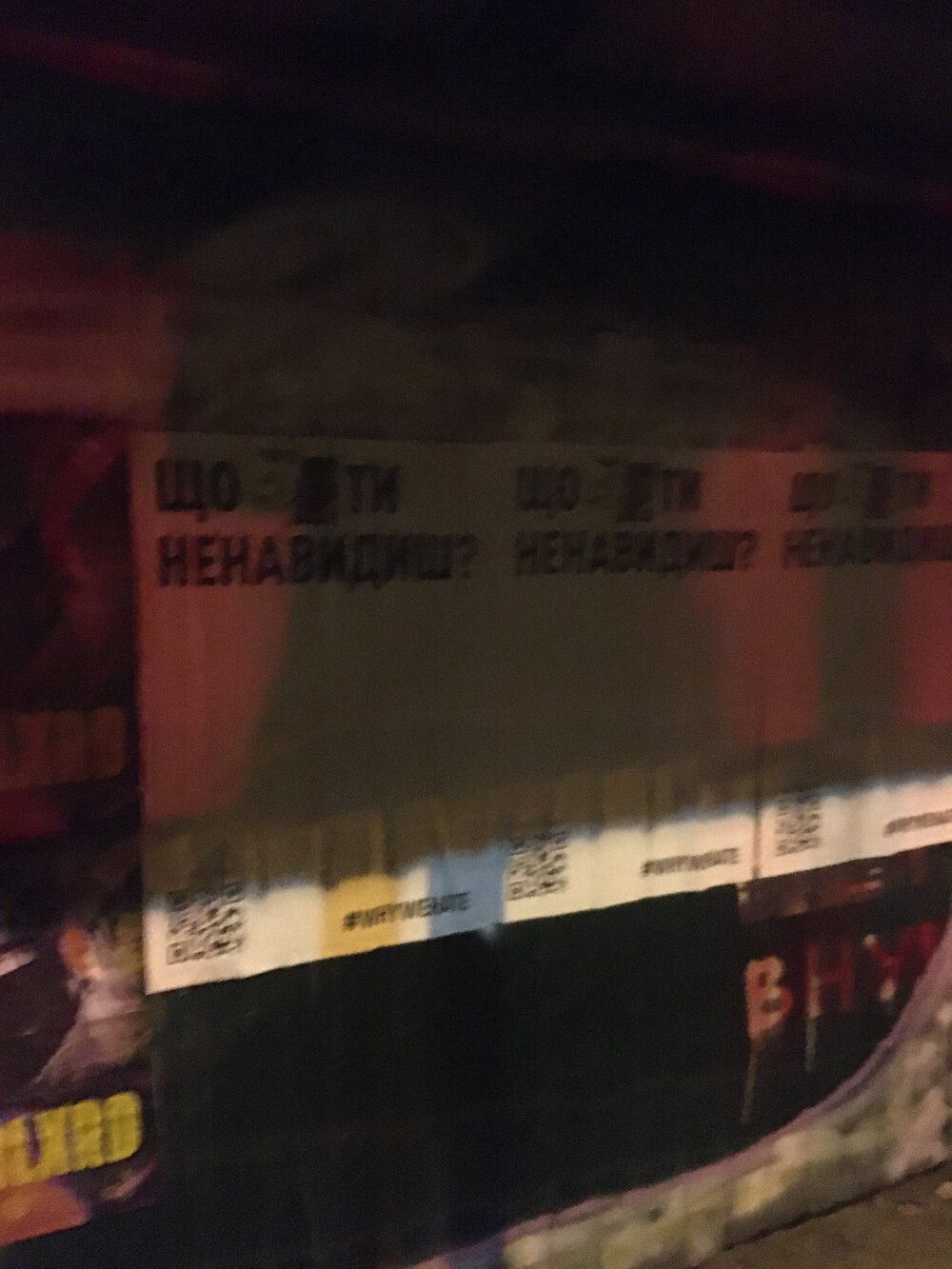
Ты ходишь на митинги?
Я не хожу на митинги, потому что боюсь ментов.
Недавно в Киеве меня принял патруль из-за российского паспорта.
В городе есть белые плакаты и на них написано: «Что ты ненавидишь». Я шел ночью, остановился, хотел сфотографировать и увидел двух патрульных. Это был моментальный ответ на вопрос, что ты ненавидишь. Эта ситуация не была спланирована, но ведь таким образом и происходит навязывание врага?
Как тебе Петр Павленский?
Мне кажется, он сильно заигрывает с образом героя и нарциссизмом. Я сейчас не беру во внимание скандал про изнасилование, но когда горела дверь ФСБ и он стоял на фоне огня — это выглядело очень в лоб, излишне патетично, маскулинно. Словно рыцарь без страха и упрека в 2020-м году, который освобождает россиян от угнетателей. Но разве сам по себе романтический герой это не угнетатель? И я повторю — не люблю, когда мне навязывают врага.
Павленский — про буквальное искусство, а для меня оно не создает нового опыта. Он говорит о том, что я и так знаю. Когда ты жжешь ФСБ огнем, ты еще больше заставляешь людей бояться этой институции. Про это классно было бы говорить менее очевидным языком и с большей иронией, чтобы не накачивать службу безопасности еще большим пафосом.
За его работами я не слежу, не знаю, что он делает сейчас. Я в принципе ни за кем не слежу. Не все искусство, что висит на стене. Если ты занимаешься живописью, то делаешь живопись, необязательно это искусство. Искусство — это взаимодействие с институциональностью.
По твоему мнению, всегда в этой цепочке должна быть институция?
Художник сам в себе имеет признаки институции, как минимум если он стремится установить или выразить некие новые отношения.
Не у всего искусства есть зритель. Институт — это система отношений, между историей искусства, архивом, фигурой зрителя, причем зритель мною понимается как условная фигура, определенный тип присутствия.
Что тебя сформировало? Как ты перешел от режиссуры к искусству?
Мое второе образование — режиссерское. Но к кино я только приблизился и почти сразу переключился на видео-арт, так как мне стало важным работать с самой ситуацией просмотра и со спецификой видео как медиума. Думаю, что отправной точкой для меня стал интерес к производству взгляда как такового и условия его возникновения. Первая выставка открылась усилиями галереи «Триумф», когда мне было 29 лет.
Тогда для одного видео я собрал found footage разных ракурсов на одно и то же событие. Люди просто снимали из соседних домов, как на МКАД взрывались баллоны с газом. Все, что я нашел на Youtube, я соединил в один таймлайн, вырезал весь звук, а затем озвучил заново — но только сами взрывы, спецэффектами из звуковых библиотек.
Следующим шагом был переход к практике работы с ситуацией потребления культурного контента, вниманием и коммуникацией. Возвращаясь к последней работе в КПИ, она существует как инсталляция, но и конвертирует людей оказавшихся на площади в 8 утра в вынужденного и чрезвычайного зрителя биеннале. Звук сирены — это пример радикальной коммуникации, он существует и для Площади Знания, и для библиотеки, для ее архива, для облицовочной плитки, в которой, кстати, можно разглядеть следы ракушек, и, конечно, для работ других художников, спрятанных в здании.
Кстати, я вырос на произведениях Владимира Сорокина.
Какое твоё любимое произведение Сорокина?
Мне нравятся его интервью своей перформативностью: большой русский писатель должен сказать якобы что-то глубокое, но, после длительной паузы, он нарушает ожидание и говорит наивное.

Как ты относишься к тому, что тебя и твое искусство называют спекулятивным реализмом?
Никак не отношусь, потому что спекулятивным реализмом занята современная философия, а я занят своей художественной практикой, которая может осознанно или нет проходить по касательной к разным дискурсивным поворотам.
Для важно работать с пространством не физически, а психологически. Почему это важно и какого влияния ты пытаешься добиться?
В каждом случае по-разному. Я хочу предложить зрителю позицию в разрыве между неким событием и эффектом, который производится этим событием.
Технологии и тема симпозиума «Кибервойна» на Киевской биеннале — насколько эти темы тебе близки?
Кибервойна — бытовая ситуация. Часто она проходит в фоновом режиме, и мы можем считывать только общие симптомы. Герт Ловинк сказал вчера: «Очень удобный способ ведение кибервойны, когда никто не понимает, что она происходит». Вы находитесь в событии, но из-за того, что видите только его симптомы, удаляетесь от него.
Я не стесняюсь аффективности или порой театральности в своих работах. Для меня это инструменты, которые позволяют выстроить нестабильную, мерцающую критическую дистанцию.
«Мы живём в аду, в котором все друг друга объективируют. Арт-критик объективируется как производитель текстов, и его зовут с этой целью; художник производит контент — всё сводится до правил поведения. “Меня ничего не интересует, кроме реальности”, — ответил один раз аутист, у которого при мне спросили, какие сны он видит. Бескорыстная реакция на идиотский вопрос». Меня очень тронула фраза про объективацию, но почему мы живем в аду?
Как у Данте, только наоборот. Ад — это тотальный маркет идентичностей, где эмансипирован лишь тот, кто владеет технологией самопрезентации.
Я почему-то верю этому парню из Харькова, что не существует ничего кроме реальности, что бы он ни имел в виду тогда. Не существует, на мой взгляд, «виртуальной» реальности, как чего-то выносимого за скобки или обладающего каким-либо дополняющим освободительным свойством. Есть реальность VR очков как пластмассового объекта и есть реальность камня на дороге — это фрагменты мультивселенной.
А бинарные противоречия вводят в тупик за счет ложных оппозиций.

Мы говорили об Украине и о России, и я знаю, что ты мало разбираешься в местной среде, но будучи здесь уже второй раз — чтобы ты выделил? Какая разница между украинской и российской художественной средой?
В России сегодня намного больше оппозиционной культуры, чем в 2017. Думаю, это оказало заметное влияние не столько на современных художников, сколько на количество контента, производимого культурными агентами и институциями. Сейчас украинская биеннале проводится силами ЦВК в третий раз, который в свое время вышел из Могилянки. Такая ситуация немыслима для Москвы: чтобы самоорганизованная инициатива взяла на себя такие широкие полномочия.
Ты был на «Схеме»?
Нет, на днях я был на улице Кирилловской на каком-то полузакрытом ивенте. И каждый раз, когда мне заклеивают камеры на входе, у меня возникает ощущение, что я попадаю на режимный государственный объект. Но к чему эта секретность? Должно ли такое ограничение вызвать чувство причастности к «тайному» обществу или освободить от всеобщей слежки?
Что для тебя чувство свободы?
Нет такого. Я не сижу в тюрьме и не работаю на закрытые государственные институции, я могу пойти на Кирилловскую, только если обладаю специальным знанием, как в этот раз — мне кто-то переслал скриншот c адресом и лайнапом в Telegram. Если заклеивание камеры — требование безопасности выживания самого заведения, то тогда именно закон Украины обязывает быть «свободным».
Тогда законы всего мира.
Если говорить про Берлин, там это туристический аттракцион: пол Европы съезжается в Берлин, чтобы съесть наркотиков и потрахаться в клубе. Да, это запрещено законом, но они понимают, что если это все вычистить, не будет потока туристов.
Что-то в Кирилловской есть от кибервойны.
О чем ты мечтаешь?
Мечтаю не желать.
То есть у тебя даже не было желания выпить кофе?
Была потребность.
Зависимость?
Потребность в неврозе.